Наталия Башмакофф (Natalia Baschmakoff), или Наталья Владимировна Башмакова, чьи воспоминания публикуют «ОЗ», — доктор философии, специалист по истории русской литературы, профессор университета города Йоенсуу, где она заведует кафедрой русского языка, доцент университета города Тампере, председатель Общества финских славистов. Она родилась в Хельсинки и постоянно живет в Финляндии. Ее отец Владимир Яковлевич Башмаков родился в 1903 году в дачном поселке Куоккала под Петербургом, умер в 1979 году в Хельсинки. После революции семье Башмаковых удалось перебраться из Петрограда в Финляндию. Со стороны матери род Натальи Башмаковой имеет новгородские корни. Прадед Натальи приезжал в Хельсинки (тогдашний Гельсингфорс) торговать сельскохозяйственной продукцией. Он оставил на некоторое время в Финляндии свою дочь 13 лет, помогавшую ему в торговле. Она прижилась на чужбине и в Россию не вернулась. Ее дочь Вера, мать Натальи, родилась в Гельсингфорсе в 1908 году, рано осталась сиротой, скончалась в Хельсинки в 1997 году. Веру Ивановну мне посчастливилось знать лично. Она была чрезвычайно энергичной, деятельной женщиной, свободно владела не только русским, но и двумя государственными языками Финляндии — финским и шведским. Для Натальи, хорошо знающей основные европейские языки, эти три языка также являются «своими», хотя и в разной степени (чтобы научить девочку шведскому, ее, как было принято у русских эмигрантов, отдали в шведскую начальную школу, а летом посылали жить в деревню в шведской семье). Вот что пишет сама Наталья Башмакова о своей языковой компетенции:
«Проблема языков для меня лично горестна, так как эмоционально чувствую лучше русский, но не всегда уверена в употреблении каких-то выражений, шведский сидит во мне глубоко, но, конечно, я сейчас его подзабыла. Эмоционально он мне ближе финского. Это ужасно, но это так. Зато финский я знаю… в совершенстве. Из финского могу делать любую языковую лепнину. Я в финском технарь и акробат. Однако в моем финском нет души. Это горестно, потому что я бы уже давно писала чтонибудь от себя, но эмоциональный языковой барьер дает себя знать. Я по сей день не решила проблемы своего «родного» языка. Ни в коем случае не трехъязычная, только русский приближается к знанию финского, шведский на отлете…» (из письма автору настоящей заметки, написанного 5 сентября 1999 года).
Позволю себе не согласиться с Натальей Владимировной. Я много раз слышала ее речь, разговаривала с ней, читала ее письма и научные работы. Ее русский — именно родной. Она говорит по-русски как носитель языка, и этого мнения придерживаются все ее собеседники и в Москве, и в Финляндии. То, что она ставит свой русский после финского (а не наравне с ним), объясняется, по-моему, только излишней скромностью и требовательностью к себе, т. е. чисто психологическими, а не собственно языковыми факторами. Достаточно обратиться к тексту публикуемых ниже воспоминаний и даже к приведенному здесь письму, чтобы в этом убедиться.
Наталья Башмакова окончила Хельсинкский университет, преподавала в нем. Подолгу жила во Франции, в Польше. Основная область ее профессиональных интересов — русская литература Серебряного века (Хлебников, Елена Гуро). Ее докторская диссертация «Слово и образ. О творческом мышлении Велимира Хлебникова» была защищена в Хельсинки в 1987 году; оппонентом был известный хлебниковед В. П. Григорьев.
Живет Наталья Башмакова в Хельсинки. У нее двое взрослых детей. Оба знают несколько языков, говорят по-русски (а ведь это эмигранты четвертого поколения!). Еще удивительнее то, что они пишут письма матери по-русски. Это большая редкость среди эмигрантов, получивших образование не на русском языке и учивших русский только дома[1].
Елена Земская
Завтра Ольгин день и мне исполняется год. Я — существо серьезное, с прилизанной прической моды конца 30-х, «а ля бубекопф[2]», как говорит мой папа. Я только недавно научилась ходить и, сопя, держась за косяк, с большим трудом перелезаю через высокие пoроги нашей старинной гельсингфорсской квартиры на Скатуддене (Skatudden). Коридор длинный, комнаты огроменные. Процесс ходьбы меня поглотил всецело. Очень, говорят, люблю перетаскивать вещи с места на место, чем тяжелее — тем интереснее, самый интересный предмет — это мой фарфоровый горшок изготовления фабрики «Арабиа», где работает тетя Рутя и много других русских теть и дядь. Говорю басом, «Лял-ляя», хрипло, на самой низкой ноте. Это значит: сестрица моя, Людмила, ученица второго класса «Deutsche Schule», ближайший мне по возрасту и подчинению человек. Я младшая, и пока все мне уступают.
Протекали ранние годы моего детства. Воспоминания фрагментарны, но ярки. Все, что связано с эпохой жизни на Скатуддене, помню в основном по семейному фольклору, по фотографиям. Единственное же свое личное воспоминание — ощущение страха, смешанного с каким-то озарением и ясным, протяжным звуком: АА-УУ-У! Как впоследствии мне рассказывали, уходя на работу, родители оставляли меня на попечение тети Оли, которая умывалась после всех в слепой ванной комнате со световым окошком, выходящим в длинный, темный коридор. Ожидая за дверью выхода тети Оли, я, должно быть, что-то верещала, а она, успокаивая, мне аукала в ответ.
Родители мои, мама Вера Ивановна и папа Владимир Яковлевич, были идеалисты. Родить ребенка в самый разгар войны казалось им таким подвигом (тем более что врач советовал маме сделать аборт), что они, помолившись перед образом Всех Скорбящих, решили принять, что дано от Бога, и не подумали, как это данное назвать. И когда священник, отец Владимир Богоявленский, спросил у купели: «Ну, какое же святое имя дадим чаду сему?», мама с папой до того растерялись, что протоиерей, махнув рукой, сам решил назвать меня в честь Святой Великомученицы Наталии (26-го августа). Однако родные долго и упорно звали Колькой, уж очень всем мальчика хотелось. Так и проходила я Колькой чуть не до самого совершеннолетия. Один, пожалуй, дедушка, не подозревавший о грядущей эре памперсов, придумал более индивидуальное и более подходящее ласкательное: Мокрая Курица.
Скатудденская квартира была нечто вроде буржуазного варианта коммуналки, только с тем различием, что все живущие в ней одиннадцать беженцев плюс моя мама, гельсингфорсский старожил, были из одной семьи. Кроме меня, Людмилы, папы и мамы, тут ютились моя бабушка со стороны отца Эмма Федоровна (Фридриховна), моя крестная мать, бездетная тетя Надя, в девах оставшаяся тетя Женя, муж первой Сан Палыч или просто Палыч, которого мы мало видели, ибо он обитал со своей Nadine в чулане на раскладушке, где супруги спали по очереди — днем Палыч, работавший ночным сторожем, ночью тетя Надя. Жили в квартире также папин брат дядя Саша, его жена тетя Оля, их сын Леник, он же мой крестный папа, и еще отец тети Оли — дедушка Гущин. В скатудденские годы в семье говорили на двух языках, по-русски и по-немецки. По-немецки говорила в основном баба Эмма с тетей Женей, они же занимались с Людмилой немецким, помогая ей развивать навыки письма и речи.
«Семья была большая, дружная…» На самом деле мелкие ссоры разыгрывались на кухне чуть не повседневно: из-за уборки, мытья посуды, картошки. Дамы, в основном тетя Женя и баба Эмма, норовили чистить крупную, а деде Гущину почему-то регулярно доставалась самая мелочь; тут дед поднимал бунт. Зато дружным хором все члены семьи крутили брикеты из стружки, туго заворачивая их в газету. Стружку приносил с работы из мебельной мастерской Хейнцмана на Скатуддене дядя Саша. Голь на выдумки хитра: в стуженые военные зимы дрова продавались по карточкам, а нагревать бак с теплой водой и топить изразцовые печи, коими отапливалось старое помещение, было делом насущным.
В чем-то семья наша отражала лицо многонационального Петербурга. Со стороны папиной мамы, моей архангельской бабушки-лютеранки, русской крови в роду практически не было. В ее родословной с середины XVII века преобладают немцы и англичане, есть французы. Зато со стороны папиного отца, петербургского книгоиздателя Якова Яковлевича Башмакова, род в основном русский и идет из Казани и, если не изменяет мне память, из Вятки. В Казани находилось одно из крупных провинциальных книгоиздательств — Издательство Братьев Башмаковых. Еще подростком дедушка Яша решил самостоятельно стать на ноги и уехал в Петербург, где поначалу работал мальчиком на побегушках на складе Корбасникова, постигая заодно секреты книжного дела. Через какое-то время он открыл филиал семейного предприятия в Петербурге, а затем окреп и стал независимым столичным книгоиздателем; это решило его судьбу и участь всей нашей семьи. Он стал петербуржцем в первом поколении, встретил бабушку, случайно приехавшую из Архангельска к родственникам, и она ему приглянулась: миниатюрная, не красавица, но порядочная, хозяйственная и с удивительно стойким характером. Так они зажили, родили шестеро детей, издательское дело стало процветать, и в 1913 году, если не ошибаюсь, дед купил в Куоккала первую дачу, потом построили вторую, по соседству с Пенатами, где дед и решил в 1918 году остаться на зимовье и постепенно перешел в звание беженца.
Мамина мама, бабушка Евдокия — моя «Бабавидакия» — Евдокия Павловна Зуева, была еще девочкой-подростком привезена отцом из Боровичей Новгородской губернии в Гельсингфорс, где прадед Павел открыл мелкую торговлю на Сандуддском (Sandudden) рынке. Зуевы торговали в основном яйцами и голубиным пометом, замечательным натуральным удобрением того времени, никак не подозревая, что в XXI столетии Сандуддский рынок будет превращен в первый в своем роде рынок, специализирующийся на экологически чистых натуральных продуктах. Прабабушка Наталья была грамотной и, говорят, очень доброй. Собирая у себя в Боровичах подати и видя, что нечего c бедного крестьянина взять, она не раз тайком уплачивала недоимки из своего кармана. Дочь пошла в мать; Бабавидакия, по рассказам мамы, была также женщиной доброй и кроткой, глубоко верующей, пела и читала в Троицкой церкви, что наискосок от Гельсингфорсской университетской библиотеки, знала церковные обряды, хранила их и передала дочери.
Выйдя замуж за дедушку Ивана, бабушка работала дворничихой, затем прачкой при русских войсках, позднее, уже овдовев, некоторое время содержала на Рюшеле (Rysskar) столовую, где, сидя в кассе, училась азам бизнеса моя тогда семилетняя мама. Жили бедно, снимали лишь угол комнаты на Мариинской улице, питались холодной пищей, так как негде было ее разогревать. При частых переездах имущество постепенно уменьшалось и под конец помещалось в небольшой узелок моей мамы-бесприданницы. Из него мне достались икона Казанской Божьей Матери, в тряпочку завернутый серебряный рубль, несколько фотографий старушки в платочке, в длинном клетчатом платье, со скрюченной после перелома рукой, старомодные очки в металлической оправе, занавески, сшитые из армейских полотняных мешков из-под муки, и еще несколько салфеточек бабушкиного рукоделья, связанных крючком из тех же распоротых мешков.
Дедушка Иван, мамин отец, был круглым сиротой, приютским найденышем из-под Нарвы, так что и имя, и отчество, и фамилия его — а следовательно и мамина, — как и само происхождение, крайне условны. Мужчиной был рослым, русым, даже рыжеватым, с курчавыми волосами и хорошим цветом лица. Он работал дворником в старинном офицерском доме за гвардейскими казармами в центре города. Вот все, что о дедушке осталось в мамином воспоминании. Даже ни одной фотографии не сохранилось, а когда дед Иван ушел из жизни, мама только-только пошла в школу. Сиротство постигло его единственную оставшуюся в живых дочь: все шестеро маминых старших братьев и сестер умерли в младенческом возрасте. Помню, как, просыпаясь, вижу маму, шепчущую перед образами: «Господи, помяни во Царствии Твоем Поленьку, Манечку, Нюрочку, Шурочку…»
Когда же скончалась бабушка Евдокия, мама осталась совсем одна, и ее приютили бездетные соседи Пульманы, ставшие для нее приемными родителями. Христина-Матильда Пульман, прибалтийская немка, знала кроме немецкого русский, шведский и английский, беспрерывно курила, пила крепкий кофе (причем умудрялась доставать настоящий душистый кофе, когда по всей стране знали один кофейный суррогат, да и тот был по карточкам) и, лежа в халате или «лизезке»[3] на высокой постели, кашляя и задыхаясь, самым светским образом принимала у себя гостей. За ее кофейным столом сами обслуживали себя друзья, бывшие и настоящие соседи, сотоварищи покойного мужа, дальние родственники. Беседа текла то по-шведски, то по-немецки, то по-русски, то по-английски, с кое-какими вкраплениями на финском, польском и испанском. Баба Тина ста ла для меня второй бабушкой. Ее муж, Уильям Пульман, дядя Вася, чопорный англичанин, окончивший престижный Итон Колледж (Eton College), но проживший всю жизнь в Петербурге и говоривший свободно по-русски, научил маму английскому языку, светскому поведению, изумительной чистке обуви и рыбы; летом они с мамой любили чуть свет уплывать в шхеры на рыбалку. Дядю Васю, проработавшего долгие годы бухгалтером, помню только по рассказам, кое-каким фотографиям и доставшимся мне по наследству предметам вроде старомодных счетов, кошелька с двойным дном, кожаной записной книжки и тяжелой металлической чернильницы с изображением льва на пьедестале.
Мой отец рано овдовел и один воспитывал малолетнюю дочь Людмилу. Они жили до 1939 года в Питкяранте, где отец работал на заводе, дававшем хлеб многим беженцам. Затем они бежали. Перебравшись в Гельсингфорс «с одним чемоданчиком», беженцы по цепочке собирали от кого что перепадет из мебели, хозяйственной утвари, одежды. Еще с куоккальских времен папа был знаком с Пульманами. Так вот и познакомился он со своей второй женой, моей будущей матерью.
Во время войны скатудденская квартира сильно пострадала, и нам пришлось разъехаться кому куда. Бабушка Эмма и тетя Женя естественным образом оказались как бы «родными нянями» при нашей семье и переселились вместе с нами в район Тэле (Toolo), где на площади 37 квадратных метров каким-то чудом разместились в однокомнатной квартире с кухней, длинной как язык, все пятеро членов семьи, так что к форточке надо было пролезать боком между шкафами и раскладушками. В эту же квартиру на ночлег приезжали гости из провинции; максимально нас помещалось здесь человек девять. Однако как в нее набивалась после концертов русского хора и оркестра еще тьма певцов и музыкантов — уму непостижимо. Знаю одно: над нами жили сестры финки, одна из них писательница. Всякий раз, когда у нас было застолье, они, как потом рассказывали, ложились наземь и, приложив ухо к полу, пролеживали в таком положении весь вечер, слушая русские народные песни в многоголосом исполнении.
Пока я не пошла в школу, пока жива была бабушка, моим миром были домашний очаг, двор, церковь и слеты русской общины. Мы с сестрой хворали много, переболели всеми классическими детскими болезнями, энным количеством ангин и гриппов, туберкулезом и т. д. В те времена врачи приходили на дом. Нас лечили отменно добрые питерские врачи, доктора Цейдлер и Циммерман. Лечили в основном домашними средствами: от желудочных заболеваний кипяченой водой, чаем с сухарями, клизмой, протертой овсянкой, полынью, иногда на кусочке сахара давали «Инноземцевы» капли. От гриппа и температуры лечили теплом, потением и протираньем, малиновым чаем, черной смородиной, напитком из меда с лимоном, горячим молоком с эвкалиптом или кипяченым молоком с луком. Ставили компрессы, горчичники, мазали грудь камфарным маслом, затем согревали утюгом фланелевый нагрудник и накладывали на намазанное место. Леченье сопровождалось бессменным дежурством на краю постели тети Жени, бабушки или папы, работавшего на заводе в три смены и поэтому часто свободного днем. Они по очереди читали нам то классику, то сказки, то молитвы и Евангелие, то сами рассказывали что-то из своей жизни. Это было некоторого рода лечение «оздоровительным словом». Оно помогало нам отвлечься, забыть про недуг, погружало в мир языковой имагинации. Так мы знакомились со сказками Пушкина, с былинами, с баснями Крылова, рассказами Чехова, с «Записками охотника», «Белым пуделем», «Князем Серебряным», «Обломовым», «Соборянами», «Детством» Толстого и Горького, с «Вием», «Шинелью», «Носом».
В 1949 году, после смерти бабы Эммы, языком общения стал русский, а как только я пошла в школу, мы с сестрой постепенно стали переходить на финский — язык более интимный, «молодежный». По-фински доверялись друг другу, по секрету рассказывали о назревающих романах, говорили о проблемах полового созревания. Помню, что отец нас постоянно одергивал: «Говорить дома по-русски!» Однако мама была с нами, словно заговорщица, и в интимных женских или официально-деловых вопросах свободно переходила на финский как язык более естественный для передачи определенной информации — часто секретной, табуированной, иногда не совсем приятной.
Большие праздники, Рождество и Пасху, продолжали справлять дружно всей семьей — по новому стилю (католическое Рождество) у нас, по старому стилю у дяди Саши и тети Оли. Если католическая и православная Пасха совпадали, то каждый у себя, и только на второй или третий день праздника собирались вместе. Начинался праздник с уборки квартиры, натирания полов «бонваксом»[4], чистки серебра, занавесных штанг и прочих медных предметов, перемывания праздничной посуды. Накануне сочельника приносили обледенелую елку, которая потихоньку оттаивала в ванной комнате; от благовонной смеси смолы и мастики по всей квартире распространялось рождественское настроение. К этим запахам присоединялись ароматы гиацинтов и праздничной еды. Пеклись финские пряники, слоеные пирожки с черносливовой начинкой, пряные торты, завязывалась и жарилась телятина, приготовлялся студень, рыбный и мясной, растиралась горчица, натирался хрен.
Все это — праздничное настроение, образы, звуки, запахи, ароматы, — всплывая в памяти, тянет за собой живые картины счастливого детства. Какое наслаждение, спрятавшись с головой под теплым ватным одеялом, выставить изпод него голую пятку, которую папа скоро пощекочет, и, прислушиваясь к шуршанию оберточной бумаги, погрузиться в негу блаженного полусна в предвкушении наступившего сочельника! На большом обеденном столе, под заслоненным абажуром, папа с мамой заворачивают рождественские подарки, и детям строго запрещается подсматривать. А как хочется! По звукам перекладываемых предметов я пытаюсь угадать, что ожидает нас вечером в дедморозовом рогожном мешке… Но напрасно. В комнате скрывается одна благоухающая еловой смолой Тайна-Невидимка.
«Мама, а ма-ам, а ты не хочешь чуть-чуть только посмотреть, какой у меня для тебя подарок?» Но мама с серьезным видом прикладывает палец к губам и делает вид, что ничего не слышит. А мне так и хочется проговориться, что купила я на свои сбереженные 50 пенни блокнотик маме и на обложке наклеила переводную картинку с букетом полевых цветов, а под цветами собственноручно написала, кривыми столбиками, первое стихотворение:
МАК И РАМАШКА
У МАМЫ
ДОЦКА ДУРАШКА
В рождественские праздники в семье нашей лютеранские традиции тесно переплетались с православными, и в сочельник 24 декабря, вопреки посту, мы ели всякую скоромную вкуснятину, пели тропарь «Рождество твое, Христе Боже наш», а затем «Stille Nacht, heilige Nacht», «O, Tannenbaum», «В лесу родилась елочка», «Снегом все покрыто», «Joulupuu on rakennettu» и другие русские и немецкие, английские, финские, шведские рождественские песни. Дед Мороз почему-то к нам никогда не заглядывал, пошумит только за дверью и оставит мешок с подарками, а самого как и не бывало.
На Рождество, насколько помню, по новому стилю мы в церковь не ходили, зато по старому отправлялись в Покровскую общину. На Пасху же в нашем доме преобладали православные церковные традиции, и мы их соблюдали достаточно строго (по новому стилю): мясопуст и сыропуст, Масленицу с блинами, Прощеное воскресенье, канон Андрея Критского и так весь пост до самой Страстной. Мы, дети, с малолетнего возраста добросовестно выстаивали долгие службы. Баба Эмма с тетей Женей и отцом оставались дома, а мы с мамой «молились за всех». Возвращаясь из церкви, тыкались елеем помазанными лбами о лбы домоседов и говорили: «Бог милости прислал!» Когда я подросла, мама со мной предварительно по молитвеннику проходила главные молитвы, тропари и кондаки к празднику, растолковывая непонятные места в церковнославянском тексте. С мамой мы посещали службы регулярно, ходили то в Чернышевское подворье, то в Троицкую церковь, то в Успенский собор. Пост соблюдали строго, но скорее принципиально, чем буквально. Как говорил отец: «Не то грех, что в рот, а то грех, что изо рта». Духовное очищение и уход в себя, так же как и упразднение суеты, считались в нашем доме важнее запретов пищи; так мы говели, готовились к исповеди, просили прощения друг у друга, а после причастия с праздничной легкостью и радостью на душе садились за стол.
Семейная жизнь тесно переплеталась с приходской, приходская с рабочей, рабочая с проведением досуга. Словом, — жили общинно. На праздниках, как только был пропет в четыре голоса тропарь, кондак, молитва Господня, многолетие, а при случае присутствия батюшки, как положено, совершено и благословение яств и пития, начиналось веселое, шумное застолье. Далее продолжалось уже светское пение, закуски и выпивка, игра на гитаре, мандолине, балалайке, домре.
Пели много. Пела не только семья Башмаковых, где, кроме мамы, все были музыкальные. Бабушка же вообще слыла знаменитым чуть не на весь Петербург тапером, подбиравшим с лету аккомпанемент под любую мелодию. А маме, говорили, «слон нa ухо наступил», с чем я никак не могла примириться, выворачивала мамин слуховой орган из-под прически и пристально всматривалась в ее жесткое, как-то неестественно приплюснутое ухо. Мне это чудо природы было непонятно, но факт налицо; и я успокаивалась, уверовав в слоновое провидОние.
Вокруг раскрытого в длину всей квартиры белоскатертного стола сидела куча друзей, дальних родственников, зашедших кто по приглашению, кто на огонек. Беженцы, привыкшие на Перешейке жить поселками и помогать в нужде друг другу, по старой привычке шли на именины или на второй день праздника без особого приглашения. Собирались в основном старые куоккальцы, оллиловцы, келломяжцы. Иногда присоединялся кое-кто из терийокцев или выборжан. Поднимались тосты, вперемежку с хрестоматийными цитатами из русской классики сыпались каламбуры и анекдоты, семейные цитаты, текла беседа, разгорались прения, парили мечты о будущем, воспоминания о покинутом. Особенно запомнились мне с детства сказочные, яркие образы непонятных реалий дачной обстановки: «теннисная площадка», «лапта», «гигантские шаги», «дворницкая», «пасека». Они помогали мне строить мир невидимого града Китежа, представлять себе воочию то, чего никогда не видел и никогда не увидишь.
«Нихачу финтигьяфи.яваться!» Я стою на крыльце снимаемой нами маленькой дачки в Пуккила, приблизительно в ста километрах от Гельсингфорса, и пристально, с великим подозрением вглядываюсь в наставленный на меня накрытый чер ным сукном фотоаппарат на треножнике, за которым видны одни ноги Силиваныча. Тетя Оля, успокаивая меня, обещает открытку, на которой буду изображена я сама. «Вот в этом же передничке с маленькими цветочками и с таким вот нарядным бантом на голове!» Это чистая абстракция. Я Силиваныча не боюсь, боюсь этого незнакомого заслоненного черного предмета и не умею объяснить, почему мне страшно, и упорно отказываюсь фотографироваться. Фотограф-любитель Василий Иванович, наш сосед, терпеливо ждет: «Смотри, скоро вылетит птичка!» «Какая?» «Воробушек!» «Тут нет вайобушкаф, есть тока чайки и вайоны». И я пускаюсь наутек, перепрыгивая через парники и клумбы крошечного палисадника и прячусь за большим валуном, моим любимым Спящим Великаном.
Дачная жизнь продолжалась в беженских условиях в несколько упрощенном варианте: вместо многоэтажных и многокомнатных барских вилл, в каковых привыкли жить обеспеченные петербургские семьи на Перешейке, здесь, неподалеку от Гельсингфорса, те же семьи, обеднев, снимали маленькие финские избушки, иногда одну баню с предбанником. Жили и здесь по старинке бывшими дачными поселками; куоккальцы селились с куоккальцами, оллиловцы с оллиловцами и так далее. Информацию об арендуемых домиках передавали по цепочке, и, смотришь, к Покрову без малого вся русская колония с Перешейка сидела опять за одним столом или под одним стогом, вкушая чай с местным финским хлебом, густо намазанным соленым маслом (провинциальная роскошь послевоенного времени).
Застолье неизменно начиналось с поминальных тостов: «Друзья, давайте выпьем за помин души тех, кого сегодня уже нет с нами!» Из обычных же тостов запомнился наиболее распространенный: «Так давайте ж выпьем за того, кто любит — кого!» Затем, ударив первый аккорд, папа начинал бархатным басом: «На последнюю пятерку найму тройку лошадей, дам я кучеру на водку: эх, мол, мчись ты поскорей… Кого-то не-е-ет, чего-то жа-а-аль, куда-то тройка мчится вдаль… Я вам скажу один секре-е-т, кого люблю, того здесь нет!» Это было его коронное соло: оно означало, что публика уже навеселе. Песня обрывалась на высокой ноте, поднимались рюмки, плыли блюда с закуской и опять кипела беседа. И что ни гость, то живой, образный рассказ.
Средств коммуникации в послевоенные годы было мало, общение, устный рассказ, беседы играли гораздо более важную роль в передаче сведений и новостей, в описании событий повседневной жизни. Поэтому казалось, что со знакомыми людьми все время происходит нечто чрезвычайное, ибо в рассказе всякий становится героем. Особенно мне запомнились рассказы папиного троюродного брата, дяди Хервига-Тридцать-три-Несчастья. Вся его жизнь, казалось, состояла из приключений бравого солдата Швейка. Когда бы ни приходил дядя Хервиг, а приходил он зачастую перед самым закрытием парадной двери, вечерняя суета приостанавливалась, детям разрешалось вылезти из постели, все садились за чай, и мы с упоением и легким трепетом слушали рассказ об очередном дядином приключении. О том, как на фронте он вышел из блиндажа, чтобы пописать, вернулся, а на месте блиндажа котлован, о том, как, опаздывая на свидание, решил скоротать путь, сел на велосипед и поехал через лед Тэлеского залива, попал в полынью, кое-как выкарабкался, промок и прозяб, лишился велосипеда и невесты, которой надоело ждать на холоду «неверного» друга. Сегодня я не совсем уверена, что все, что он рассказывал, с ним на самом деле происходило. Телефонов и радио не имелось, не говоря уже о телевидении и мобильном телефоне, и живой рассказ выполнял две функции: информативную и развлекательную.
* * *
Такой была языковая, этническая и культурная среда, в которой мне было суждено расти и воспитываться. Здесь важно отметить, что с точки зрения ребенка среда эта была защищенной, сплоченной, многонациональной и поликонфессиональной (православные — «старостильники» и «новостильники», лютеране, католики, англиканцы), средой, где были представлены разные слои общества, разные возрастные группы. Русской она была по основному языку общения и запасу ценностей имперского культурного наследия. Сплоченность языковой среды усугублял тот факт, что современные СМИ не дробили сознание ребенка, не подавляли его излишней информацией. Познание мира росло органически из корней рода, как и само семейное древо, — от бабушки к матери, к отцу, от отца к теткам и дядям, от них к следующему поколению сестер и братьев и далее к двоюродным и троюродным родственникам.
При общей скудности материальных благ нас объединяло живое слово: беседы, рассказы, семейное чтение. Под большим абажуром, висевшим над обеденным столом, отец читал нам вслух русских и переводных классиков мировой литературы, русскую беллетристику конца XIX — начала XX века, советских детских писателей Чуковского, Маршака. Читали и зачитывали до дыр «Чудесное лето» Саши Черного, а также иностранную детскую классику — «Приключения Тома Сойера», «Оливера Твиста». Отец читал изумительно, завораживающе, втягивая слушателей своим голосом и осмысленной интонацией в ход повествования. Его учителем словесности в питерском Петровском училище был опытный педагог — Василий Фавстович Пигулевский, завещавший ученикам любовь к слову, учивший не только брать от автора, но и самому интерпретировать, выявлять смысл прочитанного.
Как только папа замечал, что мы чего-то не понимаем, он останавливался, и начинались «литературные околицы». Папиной любимой настольной книгой были «Лекции по русской истории» профессора Платонова дедушкиного издания. По ней во время чтения «Бориса Годунова» отец вводил нас в исторические события Смутного времени. На вопрос: «Папа, а что такое самозванец?» — папа не просто давал ответ, а отодвигался от стола, поднимал очки на лоб, понижал голос и — начиналось «папино лирическое отступление»… Отец, как бы забывая обо всем на свете, переходил из роли читателя в роль повествователя: «Надо вам сказать, дети мои, что в те времена…» И рассказчик, вместе со слушателями, погружался в отвлеченный исторический комментарий. Доставался том Платонова. Это повышало наше детское нетерпенье, но и заостряло восприятие драматического пушкинского финала. Подобные отступления создавали настрой, напряжение, поддерживали общую сосредоточенность слушателей, их сопричастность рассказу. В них была едва ли не вся прелесть семейного чтения.
Как ни странно, первое произведение, прочитанное мной самостоятельно по-русски еще в дошкольном возрасте, была повесть Лескова «Очарованный странник». Первым же текстом русской диктовки оказалась повесть «Старосветские помещики». Вряд ли у родителей в подборке текстов был какой педагогический подход, решала прагматика: брали то, что лежало на нашей скудной книжной полке. В основном все книги приносили из библиотеки. Иногда — правда, редко — милая дама из русского отдела академического книжного магазина давала книгу из-под прилавка: почитать «на одну ночь». Такую книгу отец благоговейно заворачивал в оберточную бумагу и читал сам или вслух взрослым, когда мы с Людмилой уже сладко посапывали. Мама с тетей и бабушкой в это время усердно штопали, вязали, выворачивали наизнанку изношенные платья, «освежали» потрепанные шляпки.
Авторефлексируя с сегодняшней точки зрения русскую речь языковой среды своего детства, я должна сказать, что была это, конечно, речь специфическая, достаточно изолированная, впитывающая с годами все большее количество означаемых, указывающих на местные реалии (в основном на топонимику). Это была также речь законсервированная, остановившаяся на языковой картине мира до 1917 года, на ценностях имперского прошлого (вне зависимости от политических взглядов говорящего). Наиболее ярко это сказывалось, с одной стороны, опять-таки на наименованиях ушедших в прошлое реалий быта, с другой — на сознательном отвержении чуждых, особенно идеологически окрашенных советских реалий. С особой иронией, помню, люди относились к непонятным сокращениям. Специфика лексики языка русского зарубежья в Финляндии заключалась в наименованиях предметов уходящего мира, в особенности моды, как, например: пенсне — гамаши — гетры — жабо — фишю[5] — лизезка — ридикюль — боа — колье — вставка[6] — освежать[7] — комстрячить[8] — по-гретьхен/а-ля-гретьхен[9] — бонвакс; в кое-каких идиостилистических семейных изречениях вроде: чик![10], Санта Лимонад![11], соскребательный ножик[12]; а также в активном употреблении конфессиональной лексики в прямом, переносном, а главное в ритуальном и религиозном смысле слов: грех — грешить — согрешить — грешный — каяться — раскаяться — покаяние — исповедь — исповедаться — говорить/признаться на духу — говеть — разговляться —розговен/заговен — до морковкина заговенья —пост — поститься — постное — скоромное — оскоромиться.
Однако что касается образа родины, то для таких людей, как моя мама, бабушка Евдокия, баба Тина, образ этот складывался весьма условно, не из живого опыта, а из хрестоматийного чтения учебников Острогорского, Циллиакуса и Вогака, Белевича, Меча с иллюстрациями Билибина, Кардовского, Кустодиева, репродукциями картин Васнецова, Репина, Шишкина, Корзухина, Левитана, Саврасова, Поленова, Богданова-Бельского и других. Живой опыт у них был связан только со старым Гельсингфорсом, Прибалтикой, Перешейком. Это и была их точка отсчета, с которой они смотрели на мир.
На бескнижье и старая хрестоматия книга. По истрепанным пражским, парижским, гельсингфорсским, рижским изданиям, зачитанным дотла, переизданным бог весть сколько раз, доставшимся нам по наследству из библиотеки Александровского лицея, Роты Наблюдательной и Телефонной Артиллерии Свеаборгской Крепости, из Бианкурского Православного прихода в Париже, заучивали и мы с сестрой к празднику, к именинам, ко дню рожденья стишки, давно отделившиеся от автора и от реалий описываемого мира, вроде: Вот моя деревня, вот мой дом родной; вот качусь я в санках по горе крутой…; или Однажды в студеную зимнюю пору…; или Скучная картина! Тучи без конца, дождик так и льется, лужи у крыльца…; или Пахнет сеном над лугами! В песне душу веселя, бабы с граблями рядами ходят, сено шевеля. Учебники запечатлевали в памяти юного читателя частности, которые, оторванные от реального опыта, становились пародийными пережитками какого-то бутафорного культурного багажа; словно открыли перед вами чердачный люк и вы увидели груду изломанных, пылью покрытых вещей, из которых вы мучительно пытаетесь склеить что-то пригодное для повседневной жизни. И не зная, как применить эти обломки, вы начинаете придумывать, воображать, постепенно обитать в своем изобретаемом языковом хронотопе, где царят странные законы определяющего без определяемого. Красная площадь в Москве. Посредине памятник Минину и Пожарскому, налево Верхние и Средние торговые ряды, вдали церковь Василия Блаженного, а направо Спасские ворота Кремля, при входе в которые снимают шапки; на башне ворот часы с музыкой, читаем мы в тридцатом издании учебника Сергея Меча «Россия. Учебник отечественной географии» 1914 года. И только сейчас, осмысляя прожитое, понимаю одну поразившую меня зимой 1988 года деталь поездки нашей семьи в СССР. Мама, посетившая впервые за 80 лет жизни российскую столицу, говорит у Спасских ворот внуку Алеше: «Внучек, шапку сними!»
7 февраля 2002 года
Примечания:
[1] Ср.: Земская Е. А. Об угасании письменной формы русского языка в среде эмиграции // Язык русского зарубежья: Общие процессы и речевые портреты. Москва; Вена: Языки русской культуры, 2001. С. 152–183. [2] «Под мальчишку» (смесь франц. и нем.). [3] От фр. liseuse, восходящего к глаголу lire (читать); одно из значений этого слова в Малом словаре Робера (Le petit Robert): «Petit vetement de femme, veste chaude et legere d’interieur (pour lire au lit, etc)», т. е. короткая женская одежда, теплая и легкая кофточка (для чтения в постели и т. п.). Как показал специальный опрос, наши современники этого слова не знают, а в современных толковых словарях русского языка оно отсутствует. [4] Средство для натирки пола, род мастики. [5] В нашем обиходе так назывались части женского платья, которые прикрывали шею (в основном у пожилых женщин). Обычно «фишю» были белого, кремового, светло-серого, розового или другого освежающего лицо цвета, с плиссировкой, рюшками, складками, придающими «тряпочке» модный вид. Часто на них прикалывалась единственная драгоценность — небольшая камея или какая-нибудь другая скромная брошь.[Словарь Ушакова дает с пометой устар.: Кружевная косынка. В Малом словаре Робера под fichu находим: Piece d’etoffe dont les femmes se couvrent la tete, la gorge et les epaules, т. е. женская косынка, которой покрывают голову, горло и плечи. — Е. З.] [6] В нашем обиходе часть женского платья, исполняющая роль блузки, только без рукавов и спины (для экономии материала и облегчения стирки), пристегивалась к платью или пиджаку кнопками, сзади держалась на резинке. Домашние портнихи охотно шили вставки из кусочков материала, оставшихся от других, более богатых клиентов.Гельсингфорсская швейная мастерская «IKA» давала работу многим русским женщинам-беженкам. Таким образом и дамам из нашей семьи досталась вставка, а мне сумочка, сшитые из лоскутков бального туалета Mme Алли Паасикиви, жены нашего тогдашнего президента. [7] «Освежать» одежду: прикрепить, например, к потрепанному платью цветок, сшитый из яркого лоскутка, и таким образом отвлечь внимание от ветхости одежды; поменять воротничок, пришить манжеты и т. д. [8] Наскоро и непрофессионально изготовить что-то (не пищу; в основном одежду). Моя тетя любила комстрячить себе шляпки: возьмет шарф или вышитую наволочку с подушки, накрутит на старый берет, заколет какой-нибудь булавкой, вот и «скомстрячила» себе шляпку на случай выхода в люди. По пословице: «голь на выдумки хитра»… [9] О женской прическе: заплести две косы и уложить их на голове венчиком (вокруг головы или на темени). [10] Приветствие при встрече и прощании. [11] Экспрессивное восклицание, выражающее приблизительно то же, что черт побери!, иногда также в значении удивления или восхищения. Чисто семейное выражение, которого я нигде больше не слыхала — только у нас в семье. [12] Специальный обрубленный и тупой с кончика, но с заостренным лезвием ножик, которым особенно усердно пользовалась бабушка: для того, чтобы соскребать с подошв ночных туфлей прилипшие к ним катыши мастики с пылью. Чисто семейный фольклор.
«Отечественные записки», 2004/3



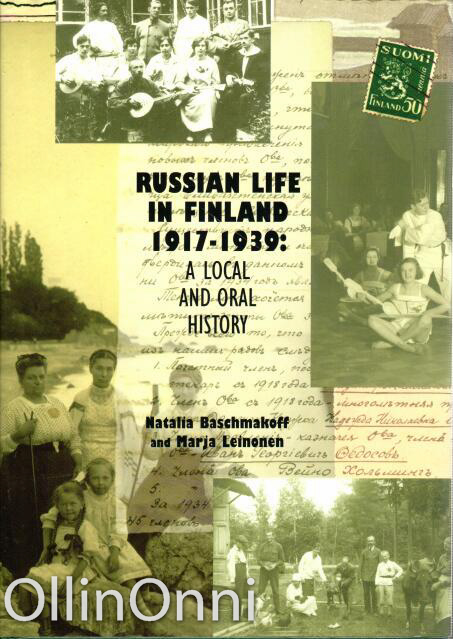

Свежие комментарии