Книга Н. Минар-Тёрмянен «Имперская идиллия. Финляндия в русской литературе путешествий (1810—1860)», опубликованная Финским научным обществом и защищенная в Хельсинкском (бывшем Императорском Александровском) университете в качестве докторской диссертации в 2016 г., показывает, как варьировалось и менялось восприятие Финляндии и ее различных регионов в России в период становления финского национального самосознания.
Minard-Törmänen N. An Imperial Idyll. Finland in Russian Travelogues (1810—1860).
Helsingfors: Societas Scientarum Fennica, 2016.
«Несколько лет назад я встретил одну знакомую барыню. На вопрос мой, где она провела лето, барыня отвечала, что была за границею. — То есть в Гельсингфорсе, шепнул мне сосед. — Сначала мне сделалось смешно от громкой фразы, но потом пришлось покаяться в лукавом смехе: я сообразил, что Финляндия, составная часть России, в то же время отделяется от последней особою таможенною линиею и особым управлением, действующим на основании своих собственных, особых законов»[1]. Петербургский журналист объяснил и свой лукавый смех, и раскаяние с точки зрения формальных юридических отношений Великого княжества Финляндского и Российской империи в 1850-х гг. Но его эмоциональная реакция на слова барыни явно основывалась не на одних юридических соображениях. Что же еще отличало поездку на воды в Гельсингфорс, т.е. нынешний Хельсинки, от выезда, скажем, в российский Кисловодск или в заграничный Баден-Баден?
Книга Н. Минар-Тёрмянен «Имперская идиллия. Финляндия в русской литературе путешествий (1810—1860)», опубликованная Финским научным обществом и защищенная в Хельсинкском (бывшем Императорском Александровском) университете в качестве докторской диссертации в 2016 г., отвечает на этот вопрос, показывая, как варьировалось и менялось восприятие Финляндии и ее различных регионов в России в период становления финского национального самосознания. Выбранный автором период важен, в частности, потому, что в то время и сами жители Финляндии не всегда могли дать четкий ответ на вопрос, кто они — финны, россияне или шведы.
Большая часть Финляндии отошла к России от Швеции по Фридрихсгамскому мирному договору 1809 г., став Великим княжеством Финляндским. Остальные территории, так называемая Старая Финляндия, были присоединены к России еще по Ништадтскому и Абоскому договорам 1721 и 1743 гг. Манифестом от 11 (23) декабря 1811 г. Александр I присоединил эти территории к Великому княжеству Финляндскому, которое теперь начиналось за рекой Сестрой, в 30 верстах от Петербурга. Рост национального самосознания финнов и использование финского языка вместо шведского поощрялись империей как средство прервать связи финляндцев со Швецией и приблизить их к России. В период, охватываемый книгой, как шведская, так и российская имперская идентичность были вполне жизнеспособными альтернативами только нарождавшемуся финскому национализму, а взгляд извне (из остальной части Российской империи) не замечал метаний финских элит (как в большинстве случаев и самого существования таковых элит). Но именно в те десятилетия, когда Финляндия была наиболее «русской», внутри страны зародилась и окрепла идея финской нации. Во второй половине XIX в. финское самосознание стало преобладать, в чем имперская власть ощутила угрозу и к концу века перешла к политике русификации, которая лишь обеспечила дальнейшее обособление финнов.
Травелог — литературное произведение, описывающее путешествие героя-рассказчика, как правило — в далекий и экзотический край, но не обязательно. Один из самых известных и «резонансных» травелогов в русской литературе — «Путешествие из Петербурга в Москву».
Травелог Минар-Тёрмянен трактует очень широко. Она не ставит перед собой задачи строгого определения жанра, привлекая и мемуары, и публиковавшиеся в периодике очерки, и экспедиционные заметки этнографов и естествоиспытателей, и путеводители, и детскую литературу, и романтические поэмы. Эти материалы отобраны из огромного корпуса текстов, выявленных в последние десятилетия, когда подъем исследовательского интереса к «образу другого» совпал с активизацией российско-финского научного сотрудничества. Финский текст русской литературы раскрывался на примере анализа произведений К.Н. Батюшкова, Е.А. Баратынского, Д.В. Давыдова, О.М. Сомова, В.Ф. Одоевского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и многих других писателей, журналистов и ученых. Большое значение имели, в частности, предпринятые Финским литературным обществом переводы на финский трудов Я.К. Грота (1983), Ф.В. Булгарина (1996), А.П. Милюкова (2007).
В России запискам путешественников по Финляндии была не так давно посвящена специальная монография В.Г. Науменко[2]. Ее автор систематизировала известные и выявила немало новых, в том числе архивных, материалов, разделив их на две части — записки ученых и литераторов. К недостаткам обширного труда Науменко относятся игнорирование современной литературы не на русском языке[3] и безоблачный оптимизм выводов: «Все русские литераторы [до эпохи Александра II] демонстрируют высокое уважение к “чудной” Финляндии и к честнейшим и бескорыстным финляндцам…»; «Негативных моментов в творческом наследии русских путешественников о Финляндии в годы правления Николая I нет». Не пытаясь вскрыть стереотипы, автор сама подпадает под их влияние, воспевая «Суоми-красавицу», заповедную землю, «прикрытую мощью России», и русских воинов с репутацией «чудо-богатырей»[4]. На этом фоне становятся еще менее понятны причины отчуждения после 1860-х гг., которое в конечном итоге привело к независимости в 1917 г.
В отличие от Науменко, автор рецензируемой книги вполне профессионально использует инструментарий гуманитарных наук, переживших «пространственный поворот» и обогатившихся постколониальной теорией. К русско-финским литературным отношениям Минар-Тёрмянен этот инструментарий применяет не первая. В неопубликованной, хотя часто цитируемой специалистами диссертации И.К. Хирвасахо «Падчерица империи»[5] на примере нескольких детально разобранных текстов было показано, что финские темы в русской литературе XIX в. вне зависимости от жанра (романтическая поэма, записки путешественника, этнографическое исследование, пропагандистские псевдонародные вирши времен Крымской войны) разрабатывались в русле единого имперского дискурса, классический пример которого — ориентализм, описанный основателем постколониальной теории Э. Саидом. Из других работ предшественников Минар-Тёрмянен упоминает статьи М.А. Витухновской-Кауппала и И.М. Соломеща.
Конечно, автор хорошо знакома и с уже ставшими классическими работами С. Лейтон, Ю.Л. Слёзкина, М. Ходарковского, М. Бассина о других народах и регионах Российской империи, и с исследованиями национальной памяти и идентичности (П. Нора, С. Шама). Автор ориентируется в русско-, финско-, шведско-, англо-, франко- и немецкоязычных исследованиях и источниках.
Возможно, критической теории в книге чересчур много: без некоторой ее избыточности западное диссертационное исследование сегодня обойтись не может. Выводы постколониального анализа, что в своих записках путешественник организует пространство с целью сохранения отношений имперской власти и колониального подчинения, могут показаться не менее банальными, чем традиционный нарратив книги Науменко, повествующей о неуклонном повышении знаний и укреплении добрососедских отношений. Все же современному читателю не очевидно, почему Финляндия, независимая с 1917 г. и воспринимающаяся ныне в России как часть Запада, подпадала под тот же колониальный дискурс. Интересно и амбивалентное положение Финляндии в рамках этого дискурса (она, как российская колония, была объектом культуртрегерской имперской заботы, но также была в какой-то мере Западом со свойственными ему чертами чистоты, предприимчивости и технологической продвинутости).
Такое двойственное положение отчасти было результатом неравномерного развития самой Финляндии. С 1743-го до 1809 г. российско-шведская государственная граница проходила по реке Кюмень (Кюмийоки); после 1811 г. границей Великого княжества Финляндского стала река Сестра. Но именно Кюмень в глазах путешественников долгое время сохраняла свою роль границы культурной, между Новой и Старой Финляндией, между цивилизацией и природой, между Западом и Востоком, Европой и «азиатчиной» со всеми их коннотациями; как отмечает Минар-Тёрмянен, эта дихотомия до последнего времени сохранялась и в финских исторических трудах (с. 238). С российской точки зрения Кюмень представляла собой и этническую границу, отделявшую финнов от финляндских шведов, которая, впрочем, стиралась к концу XIX в. по мере создания единой финляндской идентичности.
Автор выделяет различные ассоциативные ряды и классические модели описания, которые помогали представить Финляндию как «идеальную окраину идеальной империи». Образы, впервые созданные путешественниками, в том числе русскими, в традициях сентиментальной литературы и пасторальной эстетики, сохранились и в собственно финской литературе, став частью финского национального самосознания.
Финляндия привлекала путешественников экзотикой «возвышенного», т.е. своей первобытной природой, валунами, водопадами, озерами, и вместе с тем пасторальной идиллией. Символ Старой Финляндии — это Иматра, водопад на реке Вуокси, романтические светские паломничества к которому стали обязательными для петербургского туриста к концу 1830-х гг. Репутации Иматры способствовала поездка группы друзей, описанная О.М. Сомовым в очерке «Четыре дня в Финляндии» (1829). Партия Финна в опере «Руслан и Людмила», созданной одним из спутников Сомова, М.И. Глинкой, была основана, согласно другой знаменитой участнице той же поездки А.П. Керн, на «мурлыканье чухонца», песнях их финского возницы. С улучшением инфраструктуры (беседка в 1829—1830 гг., гостиница к 1844 г.) водопад потерял свою «первозданность». В начале 1850-х на дороге от Выборга слуги уже понимали русский, нищие ждали от туристов подаяния, а извозчики — чаевых. На скалах умножились автографы, процветала торговля сувенирами (камешками, открытками). Описываемые в литературе виды оставались «несравненными», но эта несравненность уже стала штампом. Единение с природой можно было при желании испытывать с сигарой в одной руке и с бокалом шампанского в другой. Туризм явно демонстрировал свою пошлость и обыденность, но эстетические потери компенсировались ростом комфорта и потока туристов.
Важнейший туристский локус Новой Финляндии — минеральные купальни в Ульрикаборге (район Гельсингфорса). Эти гидротерапевтические заведения переживали период наибольшего расцвета в конце 1830-х — начале 1850-х гг., когда более половины пациентов приезжали из России. В отличие от сухопутного маршрута до Иматры и других чудес финляндской природы, в Гельсингфорс обычно добирались на пароходах, которые начали курсировать из Петербурга с 1837 г.
Реконструируя жизнь российского светского общества на гельсингфорсских водах, автор пользуется как рядом публикаций из периодики середины XIX в. (от булгаринской «Северной пчелы» до детского журнала А.О. Ишимовой «Звездочка»), так и мало известными в нашей литературе историческими исследованиями (в частности, монографией П. Томмилы «Хельсинки как город-курорт в 1830—1850-е гг.»[6]). По мнению некоторых любителей (таких, как Ф.В. Булгарин), Гельсингфорс превосходил старейшие курорты, Карлсбад и Баден-Баден. С Булгариным соглашалась княгиня З.И. Юсупова (1809—1893): в середине XIX в. в Гельсингфорсе можно было встретить и представителей знати. Гельсингфорс привлекал своей относительной «бесклассовостью», на местных балах встречались аристократы, чиновники среднего уровня и купцы, что в Петербурге было маловероятно. Атмосфера «братства» русских гостей с финнами, которую особенно восхвалял Булгарин, возможно, была некоторым пропагандистским преувеличением, так как сам же он отмечал, что шведскоязычные семьи старались выехать в туристический сезон из города.
Впрочем, национальные элиты редко оказывались в поле зрения путешественников, которые описывали крестьян, извозчиков, хозяев постоялых дворов, иногда священников — все они предстают персонажами пасторальной идиллии, воплощающими идеалы простоты, аскетизма, чистоты и благородства мыслей и побуждений. Их верность традициям и патриархальным ценностям напоминала о древнем золотом веке человечества. В.Ф. Одоевский был далеко не первым, когда сказал в повести «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия» (1841; при переиздании в 1844 г. стала первой частью повести «Саламандра»): «Вообще финнов можно назвать народом древности, перенесенным в нашу эпоху».
Минар-Тёрмянен удачно определила образ финна в русской литературе как «руссоистского дикаря в его христианском варианте» (с. 223). Финн одинок, беден, скромен в потребностях и стремлениях, но благочестив и испытывает неизмеримое почтение к императору и великому князю (с. 225). Эта вера в личную преданность финнов суверену и предопределила доверие к ним великого князя, выразившееся в даровании Финляндии автономного статуса.
При всей обособленности политического бытия Финляндии подчеркивалась органичность и исконность ее связи с империей. Классифицируя и описывая финно-угорские племена, лингвисты и этнографы показывали неотрывность этнических финнов от их финно-угорской прародины, которую размещали в России. Валаамский и Коневский монастыри в Старой Финляндии служили древними свидетельствами включения финнов в сферу русского православия. Но не только русский мир проникает в Финляндию — граница метрополии и колонии оказывается размытой и благодаря амбивалентному статусу столицы империи, Петербурга, который, по сути, также город иностранный и… финский. «Художник петербургский! — восклицал в “Невском проспекте” Н.В. Гоголь (по Финляндии, впрочем, не путешествовавший). — Художник в земле снегов, художник в стране финнов <…>». Петербург, возникший на землях «убогого чухонца», покорного и находящегося вне истории, является блестящим символом того же победного марша цивилизации, который увенчался присоединением Финляндии (с. 219).
Финляндия, каковой она предстает в русской литературе, была богата замечательными памятниками природы, но не имела ни собственных древностей, ни истории. Средневековые древности можно было найти только в Новой Финляндии, особенно в Або, хотя и там мало что сохранилось после пожара 1827 г. Согласно выводу Минар-Тёрмянен, «историческая незначительность сделала финнов идеальными подданными империи» (с. 231). Даже фольклор финнам приписывали скандинавский: до знакомства с карельским и финским эпосом в середине XIX в. в романтическом ландшафте Финляндии искали алтари Одина (Батюшков в «Отрывке из писем русского офицера» 1810 г., Вл. Михайлов в очерке «Иматра» 1835 г.) (с. 88). Основные исторические достопримечательности Финляндии, описываемые русскими путешественниками, связаны с российскими завоеваниями от петровских времен и до последней кампании; авторы некоторых «травелогов», как, например, Батюшков и Булгарин, и сами пришли в Финляндию в составе победоносной армии. Нюслотт и Фредриксгамн были важны А.П. Милюкову потому, что там бывал Суворов. Российские «чудо-богатыри» затмевали все другие исторические образы, кроме разве памятных мест, связанных с визитами Александра I — его триумфальной поездкой в 1809 г. и посещением отдаленных районов северной Финляндии в облике скромного и гуманного правителя в 1819 г. Таким образом империя «присваивала» и осваивала как финскую историю, так и географию. «Государь император изволил также отозваться, что он тот край до Иденсальма находил столь приятным, что можно назвать его северною Италиею; но что оттуда далее было довольно пусто»[7].
Противники России в Финляндии, о которых вспоминали русские авторы, — это не финны, но почти исключительно шведы.
Буйный швед опять
Не соблюдает договоров,
Вновь хочет с русским испытать
Неравный жребий бранных споров.
Уж переходят за Кюмень
Передовые ополченья…
В отличие от черкесов да и от народов Сибири финны не существовали в представлении русских как субъекты сопротивления колонизации. Согласно наблюдениям Минар-Тёрмянен, «преобладавший в русской литературе образ финнов во время кампании 1808—1809 гг. — это сельские семьи, дающие кров и пищу русским солдатам и относящиеся к ним хотя и с подозрением, но с добродушием и без видимой вражды» (с. 213—214). В процитированной несколькими строками выше поэме Баратынского «Эда» (1826) покорение Финляндии представлено как насилие и разрушение сентиментальной пасторальной идиллии, однако намек на сопротивление финнов был исключен цензурой и опубликован только в 1883 г.:
Вкусить не смела краткой неги
Рать, утомленная от ран:
Нож исступленный поселян
Окровавлял ее ночлеги!
Национальный дискурс в Финляндии в 1840-х складывался по-другому. С. Топелиус и Ю.Л. Рунеберг вспоминали именно о сопротивлении «поселян» и о подвигах финляндских воинов (с. 214—215). Финляндская интеллигенция, в то время в основном шведскоязычная, писала не о «буйном шведе», а о финских войсках, не разделяя финляндскую «нацию» на шведов и финнов. Русские наблюдатели отделяли шведов от финнов не только в прошлом, но и в настоящем, хотя эти маркеры и не всегда соответствовали этнографическому содержанию, чему способствовала и двузначность слова «финн» в шведском языке еще во времена шведского владычества — житель Финляндии и носитель финского языка. Содержание термина «финн» эволюционировало в течение всего XIX в. как в шведском и финском, так и в русском языке. Возможно, автору об этом стоило поговорить более подробно, разобрав различные пути эволюции этнических терминов «финляндский», «финский», «финско-шведский» и проч. до формирования финского национального самосознания (во многом силами шведскоязычных фенноманов) и массового перехода финско-шведской интеллигенции на финский язык. Можно было бы упомянуть и представителей шведскоязычного финляндского дворянства, делавших успешную карьеру в Петербурге.
Автор уделяет больше внимания термину «чухонец» в его противопоставлении «финну». История термина изложена не вполне аккуратно, со ссылкой, например, на Pihkova Chronicle (с. 226) — памятник, в названии которого читателю, не владеющему финским, трудно узнать Псковскую летопись. Этнонимическое прилагательное Tschudisk, употреблявшееся журналистом и политиком из Швеции А. Сольманом в середине XIX в., нельзя назвать уничижительным (disparaging) синонимом слова «финский», не приводя конкретных ссылок (с. 226, примеч. 70). Само написание слова свидетельствует о том, что оно восходит к немецкоязычным этнолингвистическим классификациям. В своей известной работе, написанной с целью противостоять антишведским эксцессам фенноманов и подчеркивавшей культуртрегерскую роль Швеции в судьбах финнов и Финляндии, Сольман употреблял слово «Tschudisk» именно в значении «финно-угорский»[8].
Но смысл русского слова «чухонец» в книге Минар-Тёрмянен отражен верно. Этноним применялся в основном к финноязычным крестьянам на петербургских рынках и другим мигрантам, а также к родственному финнам населению губернии (например, ижоре) и имел несомненно пейоративное значение бедности и убогости. Иногда он применялся и к финнам в целом, против чего возражал, например, Ф.К. Дершау, призывая в 1842 г. не судить о финнах по чухонцам Петербурга. По удачному определению Минар-Тёрмянен, образ чухонца — «недостойный двойник» романтического образа финна, это дикарь, оставивший свое естественное окружение (с. 230—231).
Наряду с тем, что Н. Минар-Тёрмянен демонстрирует большую эрудицию в истории идей и истории искусств, некоторыми из бытовых деталей эпохи она оперирует менее успешно. Так, невероятным представляется утверждение о том, что в то время, когда путешествующим в Финляндию требовался паспорт, «финляндцы могли путешествовать в пределах остальной империи без конкретных документов» (с. 115): достаточно заглянуть в Свод законов Российской империи, где есть глава «О паспортах финляндских обывателей в империи»[9]. Остались недоработанными и вопросы, связанные с масштабом цен, — стоимость билетов на пароход в середине XIX в. сопоставляется с жалованьями конца XVIII в.; если бы данные были ближе по времени, то было бы проще судить о доступности пароходного билета представителям разных социальных слоев (с. 131).
Укажем на одну ошибку, допущенную при рассказе об изучении финского фольклора. Опираясь на опубликованный на финском языке текст В.Г. Базанова, который сослался на первую часть доклада «кандидата Харьковского университета (Harkovin yliopiston kandidaatti)» В.И. Брайкевича «О северной поэзии, ее происхождении и характере», заслушанную на заседании Вольного общества любителей российской словесности 22 марта 1820 г.[10], Минар-Тёрмянен заключила, что заседание общества было якобы проведено в Харькове (c. 90), что, конечно, неверно. В то время Брайкевич был молодым чиновником в Петербурге, где и читал свой доклад о северной поэзии, первая часть которого была в основном посвящена финской народной поэзии, а вторая и третья — англосаксонской и исландской[11].
Подобных недочетов в многодисциплинарном исследовании Минар-Тёрмянен немного, и их совсем несложно исправить при подготовке русского издания этой книги или, возможно, ее отдельных глав (в этом случае было бы хорошо объединить ее с наиболее интересными разделами диссертации И.К. Хирвасахо). В год столетнего юбилея финляндской независимости историки обращали основное внимание на противоречия, характерные для заключительного периода российской Финляндии, но Минар-Тёрмянен удалось показать, что время, когда Финляндия была «идеальной окраиной идеальной империи», не менее важно для понимания как русской, так и финской культуры.
Опубликовано в журнале НЛО, номер 5, 2018



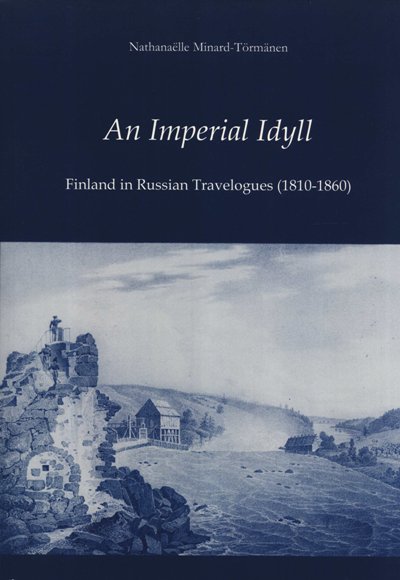

Свежие комментарии